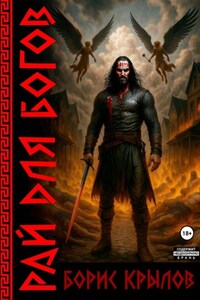Гарри Каракулин.
Предать огню на закате.
– Габи! Габи, где ты, дрянная девчонка? – кричала из окна жена плотника, дородная и краснолицая Отелия Глаубер, затем, обернувшись к мужу, продолжила. – Людвиг, тебя это как будто не касается?!
– Жёнушка, дорогая, ну зачем ты надрываешься на всю улицу? Над нами и так все соседи смеются.
– Ишь, смеются… Не очень-то я боюсь. А что ты, что молчишь? Сладу нет с этой девкой. Какой-то ураган, наводнение, чума.
– Отелия, не гневи Бога. Вспомни, как мы молили Господа, чтобы он послал нам деток, эту радость…
– Я не об таком молила. Ты же знаешь, я всегда хотела сыновей.
– Но дорогая, волею Божьей все наши трое сыночков сейчас там, на небесах.
– И вот Господь нас утешил, ничего не скажешь…
– Нельзя так. Не гневи Его, – повторил Людвиг Глаубер, уже поседевший, но ещё довольно крепкий подтянутый мужчина с обманчиво суровым лицом.
– Ну и пусть. А ты… Только и потакаешь её проказам, а до меня тебе и дела нет.
– Неправда. Ты же знаешь, что это неправда. Просто в тебе скопилась дурная кровь. На днях я приведу знакомого лекаря, Мартина, ты его знаешь, он своих лечит за полцены.
– Что?! Только попробуй! Я запущу в него ночным горшком! И тебя поколочу.
– Эх, Отелия… Ну ладно, мне пора.
Людвиг вышел на улицу, поправил сумку, оглянулся.
– Отец! Я здесь! – раздался серебристый голосок Габи.
Она подбежала и повисла на нём.
– Тихо, тихо, дочка. Соседи смотрят. И что ты на себя одела? У тебя же есть новое платье.
– Ну и пусть смотрят. А ты на работу, да?
– Да, дочка. Большой заказ, денег получу, хотя платят за это не так много.
– Ты дом строишь?
– О, нет.
– Значит, столы и шкафы?
– Теперь всего лишь столбы обтёсываю.
– Да? Отец, ты хороший. Если б ты знал, как я тебя люблю. А мама плохая. Она мне как злая мачеха.
– Габи! Не смей так говорить! И переоденься.
– Ладно, ладно. А когда ты придёшь? Принесёшь мне что-нибудь?
– Приду я поздно, дочка. Много работы. И слава Богу, что много. Поэтому я нынче неплохо заработаю и принесу тебе… принесу что-то… А что ты хочешь? Сладости? Куклу?
– Неважно. Что-нибудь.
– Ну вот и принесу что-нибудь. Мне надо спешить, дочка, не огорчай мать. До вечера.
– Ну ладно, до вечера.
Базарная площадь гудела. Кто-то надрывался, расхваливая товар, в мешках кричали петухи, а на помосте два дуралея в колпаках, гримасничая, спорили о том, что важнее – пиво или супружеская верность. Пожилой пьяный сапожник тут же, недалеко, танцевал с метлой, уверяя, что это его покойная жена, которая приходит по вечерам пропустить с ним кувшин аббатского пива. Некоторые, подыгрывая, с нарочито серьёзным видом и весьма почтительно, кланялись метле. Толпа визжала от смеха.
У Кэтрин опять распродавалось всё живее, чем у соперниц по цветочному ряду. И снова ей стало не по себе от их косых взглядов и недоброго ворчания. Ну разве она виновата, что Господь наградил её красотой, и даже женщины, не говоря о мужчинах, предпочитают покупать розы, нарциссы и маргаритки именно у неё? И красивые венки из цветов и ароматных трав – они были просто нарасхват. Молодки брали их на праздники, старухи – как оберег.
Под конец дня к ней подбежала быстрая как ртуть девочка, одетая в продранное в нескольких местах платье:
– Ой, какие красивые венки! Никогда таких не видала! Хочу купить!
– Что ты, милая, у тебя и денег, наверное, нет.
– С чего ты взяла? То, что я в рваньё одета, это так… Просто позлить… э-э-э… мачеху.
– Ты сирота?
– Да как сказать… У меня есть отец, он самый лучший. Но она на нём ездит, как ведьма на метле.
– Господи… Не говори так.
– Да ничего. Сколько стоит вот этот венок?
– Да что ты, милая, давай просто подарю.
– Правда? Ой, спасибо!
– Вот, бери. Как тебя зовут?
– Габи. А тебя как?