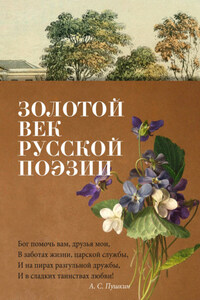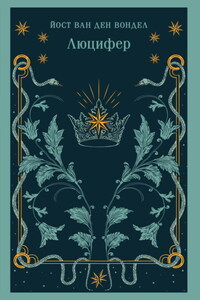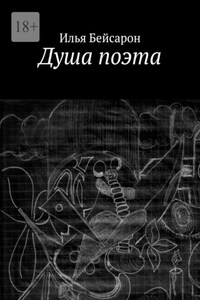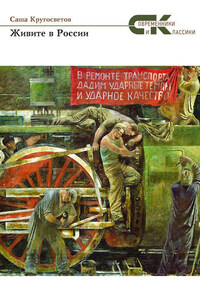В середине XX века происходят кардинальные перемены в подходах к изучению языка, что обусловлено переходом от структурализма к антропоцентрическому подходу. Понятие «антропоцентрический принцип», введенное Ю. С. Степановым и развитое далее в его «философии эгоцентрических слов» [1985], основано на концепции субъективности как местоименной категории Э. Бенвениста. В современных гуманитарных науках сложились две основные традиции понимания прагматики, которые восходят к теории Ч. Пирса, сформулировавшего в конце XIX века логико-философские основы прагматики, заложив фундамент философии американского прагматизма, и Ч. Морриса, разработавшего в 1930‑е годы теорию трех измерений семиозиса, на которую опирается лингвистическое изучение прагматики.
Понимание языкового высказывания как действия, меняющего обстоятельства внеязыковой действительности, сформировалось в 1960‑е годы в теории речевых актов Дж. Остина, концепции субъективности в языке Э. Бенвениста, теории иллокуции Дж. Сёрля, теории кооперации Г. П. Грайса и др. Хотя сам Дж. Остин отрицал возможность исследования иллокутивности в поэтическом языке [Austin 1962], его теория уже спустя несколько десятилетий легла в основу ряда исследований речевых актов в литературе [Derrida 1988; Sell 1991; Hillis Miller 2001; Транслит 2014, см. также обзор в Венедиктова 2015]. Учитывая, что большинство современных работ по прагматическим маркерам изучают их функционирование в разговорной речи, отметим характерную для современной лингвистики тенденцию к исследованию этих единиц с точки зрения дискурсивной специфики на материале политического, медиа, медицинского и других дискурсов. В немногочисленных лингвистических работах принцип кооперации Грайса был применен к анализу литературы абсурда [Ревзина, Ревзин 1971; Падучева 1982], рассматривались прагматические аномалии в художественном тексте [Радбиль 2012], исследовалась коммуникативная функция поэзии [Kraxenberger 2014].
Важным, но незавершенным проектом по лингвистическому изучению прагматики литературного дискурса стал цикл работ по «литературной прагматике» Т. Ван Дейка [Dijk 1972], который сформулировал основные принципы «грамматики текста», строящейся не на анализе предложений, а на анализе высказываний (utterances), и указал на особую «дейктическую экспрессию» литературного дискурса. Именно дейксис как одна из основных категорий прагматики наиболее активно исследуется лингвистами, обращающимися к поэтическому тексту, чему посвящены работы о местоименной поэтике И. И. Ковтуновой [Ковтунова 1986], обширное исследование дейксиса К. Грина [Green 1992], анализ дейксиса в рамках когнитивной поэтики П. Стокуэлла [Stockwell 2002]. С. Т. Золян формулирует теорию поэтической прагмасемантики [Золян 2014], о выдвижении в современной поэзии на первый план прагматики и дейксиса пишет О. И. Северская [Северская 2015] и др. Выявляя специфику поэтической функции Р. О. Якобсона с прагматической точки зрения, А. Капоне подчеркивает, что стихотворение – это акт коммуникации («прагмема» – в терминологии автора), который «требует социального контекста и стремится изменить его, привнося в него что-то свое, наполняя душу читателя и делая ее способной реагировать на происходящие вокруг социальные и исторические события» [Capone 2023: 3]. Развивая идеи о поэтике конверсационного анализа, Г. Джефферсон впервые вводит эту область исследования в лингвистику [Jefferson 1999], что получило дальнейшее развитие в работе, посвященной преодолению разрыва между конверсационным анализом и поэтикой [Person, Wooffitt, Rae 2022].
Наша монография делает шаг к некоторым разгадкам поэтической прагматики, причем на материале самой новейшей поэзии