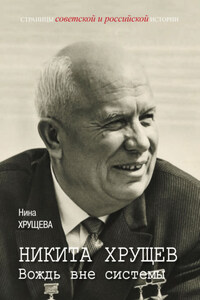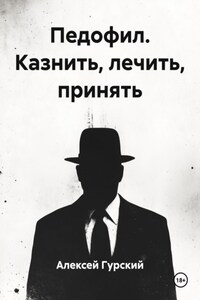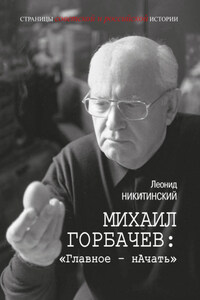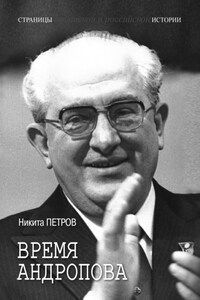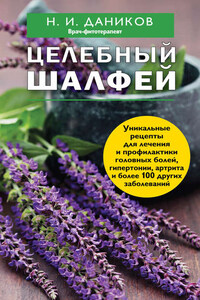© Хрущева Н. Л., 2024
© Фонд поддержки социальных исследований, 2024
© Архив внешней политики Российской Федерации, иллюстрации, 2024
© Государственный архив Российской Федерации, иллюстрации, 2024
© Российский государственный архив новейшей истории, иллюстрации, 2024
© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2024
© Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, иллюстрации, 2024
© Фонд-Архив Бруно Крайского, Вена, иллюстрации, 2024
© Политическая энциклопедия, 2024
Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А. К. Сорокин
* * *
Работа Нины Хрущевой «Никита Хрущев: Вождь вне системы», будучи еще одной биографической книгой о государственном деятеле советского периода, все же является книгой особенной. Она написана родственницей, хотя и довольно отдаленной – правнучкой. Поэтому так же, как в опубликованных работах других представителей «хрущевского клана», кто-то увидит в исследовании объяснимый налет «родственной субъективности». Впрочем, когда речь идет о Никите Хрущеве – фигуре весьма противоречивой, что и зафиксировано в его черно-белом надгробии работы Эрнста Неизвестного, – разброс мнений настолько широк и чаще всего непримирим, что вывести из него некую объективность вряд ли возможно.
Нина Хрущева пытается избегать излишней апологетики персонажа. По многим вопросам ее политологические оценки берут верх над родственными, но вряд ли это удовлетворит бескомпромиссных критиков «оттепели» во всех ее проявлениях и лицах.
Многие могут поспорить с автором относительно роли Никиты Сергеевича в Большом терроре: да, он был скорее исполнителем, чем «законодателем» репрессий, но все же не совсем «рядовым», как его оценивает Нина Хрущева. Хотя можно предположить, что она в данном случае приводит не столько собственную оценку, сколько самоощущение самого Никиты Сергеевича.
Определенные споры может вызвать глава 9 «Крымская правда». Автор излагает точку зрения, согласно которой Хрущев не был главным, тем более исчерпывающим, персонажем в истории передачи Украине Крыма. Ее аргументы: в феврале 1954 года СССР все еще придерживался формулы «коллективного руководства». Когда состоялась передача, Климент Ворошилов был председателем Президиума Верховного Совета, а руководителем страны – Георгий Маленков, занявший годом ранее пост умершего Сталина. Другие же возразят, что уже тогда позиции Хрущева были достаточно сильны. Впрочем, автор не утверждает, что решение о передаче Крыма прошло без него. Она в основном обсуждает степень участия Хрущева в этом «подарке», который носил прежде всего не политический, а социально-экономический характер.
Рассказывая о событиях «решающего 1957 года» для карьеры Хрущева (глава 14 об «антипартийном заговоре»), автор описывает те дни как попытку переворота. Во многом это совпадает с позицией самого Никиты Сергеевича и может быть истолковано как предвзятость правнучки. Впрочем, в книге приводятся многочисленные цитаты других участников со взаимоисключающими выводами о причинах «заговора». По сути, за такими словопрениями стоит раскол руководства партии после ХХ съезда, на котором КПСС устами своего лидера осудила культ личности Сталина и практику политических репрессий. Раскол на сталинистов и антисталинистов. И если первых в Президиуме ЦК оказалось больше, чем сторонников Хрущева, то в самом ЦК соотношение сил сложилось в пользу первого секретаря.
Что касается провалов экономических реформ Хрущева, описанных в книге менее подробно, чем другие аспекты его деятельности, конечно, их анализ должен идти дальше лежащей на поверхности ответственности партийной бюрократии. Причины неудач крылись не только в самом Хрущеве или в его окружении. Последующие события, от «Пражской весны» 1968 года до горбачевской перестройки конца 1980-х годов, показали, что советская система хозяйствования не поддавалась реформам в принципе, кто бы ни был их автором, и требовала полного отказа от нее (фактически – самоликвидации), сопровождаемого к тому же всеохватывающи политическими реформами.