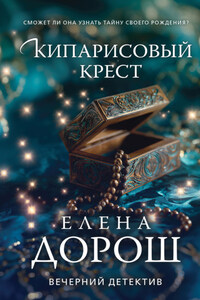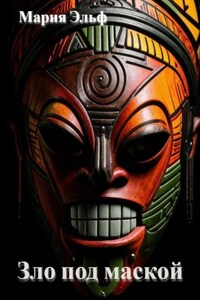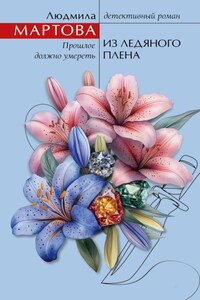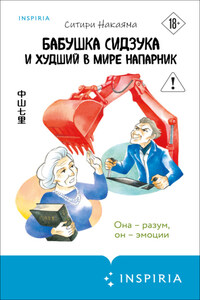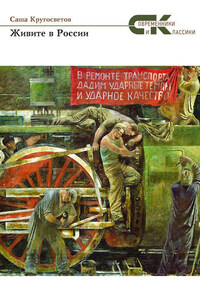Младенец вдруг закричал. Негромко, но требовательно.
– Сунь титьку, – буркнул бородатый мужик, покрепче прижимая дверцу повозки.
– А то без тебя не знаю, – скривилась баба. – Холодно с голой титькой-то. Может, до станции потерпит?
– Да мне-то что. Пусть хоть дуба даст.
– Ага. А нам потом вместо денег – шиш с маслом.
Баба взяла закутанного в тулуп ребенка и, кое-как пристроившись, стала кормить.
– Ишь, лопает. Наш-то не такой прожорливый, – проговорила она, невольно улыбнувшись.
– Ты не больно раскармливай. Мало ли сколько добираться придется.
– Не боись. Еще насобирается.
– Вы, бабы, как коровы дойные, – хохотнул мужик. – Вас хоть вообще не корми, молоко все равно будет.
– Корова хороша, когда бык неплох, – парировала баба, ухмыльнувшись, и сунула соседу кулаком в бок.
– Погодь до дома. Там разберемся, – осклабился мужик.
Баба заправила грудь в ворот рубашки и запахнула тулуп. Ребенок, затихший было, снова заплакал.
– Перепеленать надо. Промокло все.
– Так пеленай! Мне, что ли?
– На холоду неудобно.
– Тогда пусть терпит.
– Орать будет. Да и простынет на морозе… Подай, что ли, пеленки.
– Я смотрю, ты прям жалостливая вся. Меня бы так жалела.
– Чего тебя, бугая, жалеть-то, – проворчала баба, распеленывая младенца. – Рожа, вишь, сытая какая. А дитя и так горя хлебнуло. Не успело на свет появиться, его уже с рук сбывают. Глянь-ка, Васька, чего я нашла.
– Чего там? – покосился мужик.
– Да вот. На веревку с крестом колечко надето.
Повернувшись всем телом, мужик потянул веревочку на шее младенца.
– Тише ты! Чего рвешь! – остановила его баба.
– Дай сюда.
– Крестик хоть оставь. Зачем тебе деревянный? Пусть у ребятенка хоть что-то от мамки останется.
– Ладно, – буркнул мужик, снимая кольцо и завязывая веревочку узлом.
Баба надела крестик на тоненькую шейку и торопливо закутала плачущего от холода младенца.
– Смотри-ка, а недешевый перстенек, – рассмотрев кольцо, обрадовался мужик. – Золота немало, да и работа тонкая. И буквы какие-то выбиты. «М» и еще раз «М».
– Мамаши инициалы. Или родителя.
– Графы, поди, или князья.
– Графы или князья, а все едино – ироды. Родное дитя…
– Цыц! – оборвал причитания мужик. – Делай, за что взялись, да помалкивай. Сами разберутся!
– Ага. Разобрались уже, – пробурчала баба, прижимая к себе младенца.
Санкт-Петербург утопал в снегах. Его в этом году навалило немало. А февраль выдался настолько снежным, по улицам не то что пешим, конным проехать стало совсем невозможно. Дворники мели тротуары день и ночь, но проку от этого было мало.
Приютских в такую погоду даже во двор не пускали. Гулять все равно неловко, снег валит, как шальной, а одежду промокшую потом сушить – замаешься. К тому же, не ровен час, кто-либо подхватит простуду, тогда и вовсе пиши пропало. Заболеют скопом, а это хуже напасти. Лекарств не хватало, ухаживать за больными охотников было и того меньше. Так что пока не заболел, держись, а заболел – терпи.
– На все Божья воля, – говорила обыкновенно заболевшему Аркадия Дмитриевна, руководившая их воспитательным домом.
Когда же кто-то из детей умирал – что не было редкостью, – перекрестившись, изрекала равнодушное:
– Бог дал, Бог взял.
Их приют был не церковным, а государственным. Церковные гораздо беднее, потому и содержались там сироты из самых нищих сословий. Их же относился к «Ведомству учреждений императрицы Марии», потому исправно снабжался из казны. Однако по неизвестным причинам девочкам жилось и голодно, и холодно.
При поступлении в воспитательный дом младенцы делились на три категории. Первые, здоровые и крепкие, сразу отправлялись по деревням. Вторые, хорошего сложения, но требовавшие временного докторского присмотра, пристраивались в приемные семьи. В самом приюте оставались дети третьей категории: совершенно слабые и нуждающиеся в постоянном уходе.