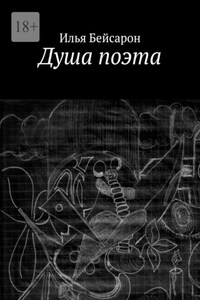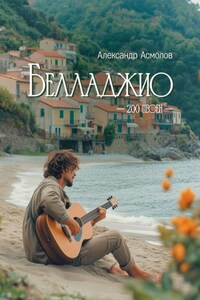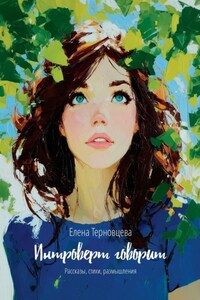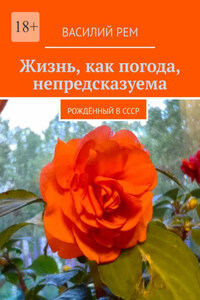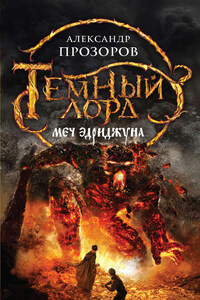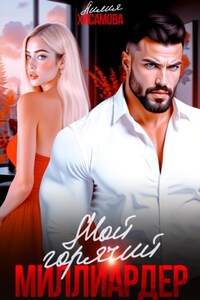ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЭТИЧЕСКОГО (СТИХОТВОРНОГО) ПЕРЕВОДА
Я взялся за перевод «Фауста» И.В.Гёте не только как любитель поэзии, но и как языковед, обладающий специальными знаниями в области Языка и Речи; как лингвист, разрабатывающий методологию соотношения Языка и Сознания, Речи и Мышления; а также как переводчик, имевший дело с практикой устного и письменного перевода; и как преподаватель, долгие годы читавший лекции по теории перевода (транслятологии) для студентов немецкого отделения переводческого профиля – будущих профессионалов в сфере межкультурной коммуникации.
Диалектики утверждают, что язык в целом является формой мысли. Иначе говоря, языковые формы, имеющие своё собственное содержание, а именно, словесные звукозначения, соотносятся в акте именования, обозначения и говорения с внешним содержанием какой-то мысли. В столкновении языковых значений и мыслительных понятий порождаются новые, интегративные смыслы. Прямые словарные эквиваленты в этой связи могут привести в лучшем случае к модификации исходной мысли, в худшем – к её непониманию или искажению.
Как когда-то говорил Блез Паскаль, французский математик, физик и одновременно литератор и философ, «форма должна быть изящна, но этого мало, она должна соответствовать содержанию».
«Изящность формы» создаётся, прежде всего, благодаря рифме. Рифма – это созвучие, фоническая согласованность отдельных звуков и слогов, а также более сложных, комплексных звукосочетаний. В основе рифмы лежит естественная потребность речи к звуковому уподоблению, или звуковой инерции. Под звуковой инерцией я понимаю появление в речевом потоке, а именно, в каком-нибудь из последующих слов, связанных по смыслу, аналогичного звука, имеющегося в предыдущем слове. Это можно продемонстрировать на следующем примере: Слава – — солдатская. Слава – — боевая. Слава – — прошла. Звуки или слоги в сочетающихся словах ассоциируют друг друга, стремятся к единению, уподобляются. Сочетающиеся же слова, в свою очередь, согласуются по смыслу, имеющемуся в каждом из них, или объединяются по отношению к какому-то внешнему понятию, ср. сладкий мёд, железные нервы.
В трагедии «Фауст» И.В.Гёте актуализируются следующие модели рифмовки: (1) АБАБ, (2) ААББ; (3) АББА, которые, по мере целесообразности, я также использовал в поэтическом переводе (здесь: одинаковые буквы символизируют созвучие строк), ср.:
(1) Сон, как маленькое воскресенье
обновляет чувства на корню.
Наступает время исцеленья,
подними свой взор навстречу дню!
(2) Заливаются светом равнины, высокие горы.
Трубный звук разрывает пустые просторы.
Жаром солнце пылает, трещит в небесах.
Болью свет отдаётся в открытых глазах.
(3) Лишь нам работа тяжкая годна
Гудят деревья, пилы завывают.
Трещат пупы и руки нарывают.
Но грубая работа умникам вредна.
Известно, что в погоне за красивой формой, «когда не мысли придают словам достоинство, а слова мыслям» (Б. Паскаль), можно извратить смысл переводимого оригинала. Слова, используемые в качестве одежды для мысли, могут переключить внимание читателя на языковую мишуру. Переводчик от таких опасностей не застрахован.
Даже разная последовательность слов или строчек может породить различные смысловые нюансы, ср.:
(1) Невесте же нашепчем в ушки
– жених её над ней смеётся.
Расставим с двух сторон ловушки.
Авось в них кто-то попадётся.
(2) Нашепчем же невесте в ушки
– над ней её жених смеётся.